Статья из журнала "Турист" 1990 г. №10
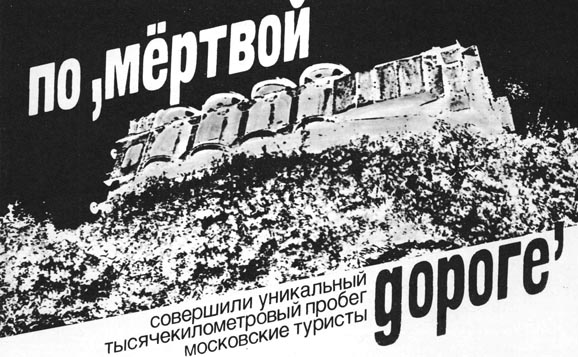
В седьмом и девятом номерах «Туриста» за 1990 год было опубликовано интервью нашего корреспондента О. Фоменко с инженером, мастером спорта СССР Е. Прочко, в котором шла речь о строительстве Трансполярной железнодорожной магистрали, названной в те далекие годы одной из «великих строек». Сегодня мы предлагаем вам проехать по «мертвой» дороге — так именуют теперь это место — вместе с нашими современниками.
Все началось с журнала «Турист», опубликовавшего материалы об экспедиции следопытов Московского клуба железнодорожного моделизма по «мертвой дороге» (см. «Турист» .№ 8, 1985 г.). Вот тогда и появилась шальная мысль: а что, если... на велосипедах?
Готовились к походу больше двух лет. В группу, которую возглавил Валерий Медовый, один из опытнейших туристов столицы, вошли активисты Московской городской велокомиссии Лев Давыдов, Анатолий Гаель, Сергей Кольцов, Илья Певунчиков. Дмитрий Федюшии и автор этих строк. После встреч с людьми, побывавшими в тех местах в последние годы, вырисовывалась довольно мрачная картина. На протяжении тысячи километров от Енисея до Оби вдоль Полярного круга можно насчитать едва ли десяток населенных пунктов. Дороги практически нет. если не считать небольших участков «бетонки» около Нового Уренгоя к Надыма. Остальные же сотни и сотни километров это в лучшем случае заросшая и деформированная вечной мерзлотой насыпь заброшенной «железки». Правда, на западном плече, от Надыма до Салехарда, сохранилась почти непрерывная рельсовая колея, местами сильно поврежденная. А от Нового Уренгоя до Надыма существует вполне исправная ведомственная железная дорога с очень редкими поездами... И у нас возникла идея поставить велосипеды на рельсы. Вскоре в нашем предпоходном лексиконе появилось слово «велодрезина».
Главным разработчиком и создателем специального приспособления к велосипеду для езды по железной дороге стал Анатолий Гаель. Изготовленные с его помощью комплекты из труб, роликов и опорного валика (каждая приставка к велосипеду «тянула» на 6 килограммов!) загодя были отправлены в Новый Уренгой, ведь на восточном участке маршрута они нам не могли пригодиться. И все-таки стартовый вec у каждого достигал 37—40 килограммов, плюс еще велосипед... Планируя поход в Москве, мы надеялись использовать «велики» на восточном участке маршрута хотя бы в качестве тележек. Увы, реальность оказалась несколько хуже.
Первые километры от заброшенного поселка Ермакове на Енисее — разъезженные до предела колеи — следы тяжелых вездеходов, которые обслуживали работавшую здесь несколько лет назад геологическую партию. Очень странным, каким-то «потусторонним» показался нам стоящий посреди тракторной дороги старый паровоз О» «овечка». Рельсов-то уже давно нет, вывезли на переплавку, а этот «ветеран», один из очевидцев «великой сталинской стройки», остался.

Дальше хуже: пошли совсем заброшенные участки бывшего полотна. Вот и первое серьезное препятствие — большой мост через Барабаниху. Бетонные «быки», железные фермы пролетов... Самая дальняя из них соскользнула с береговой опоры и одним краем упала к ее подножью. Образовалась гигантская лестница, круто уходящая вниз. Вместо ступеней подгнившие шпалы. Пришлось организовывать челночную переправу: один осторожно переступает по брусьям, а другой с помощью шнура страхует его сверху. Мостов на трассе попадалось очень много. Иногда они шли один за другим с интервалом в 200—300 метров. В основном деревянные конструкции, почти все сильно раз- рушены или деформированы: вечная мерзлота упорно выталкивает сваи опор наверх и от этого мосты дыбятся над насыпью, их настил выпучивается горбом. Приходилось сооружать «подъездные пути» из валяю щихся рядом шпал и досок.
«Ассортимент» препятствий дополняли глубокие промоины в насыпи. Крутой спуск по песчаному откосу, когда велосипед рвет ся из рук и буквально тащит за собой, поиск удобного места для переправы через очередной ручей, а затем подъем по противо положному склону промоины... Одному здесь не управиться, нужен «толкач», подпирающий сзади тяжелый велорюкзак. Затащили один велосипед, второй... последний! Препятствие (сотое? сто двадцатое? сто пятьдесят первое?) пройдено. Отдыша лись, подкрепились таблеткой аскорбинки или несколькими изюминками, пошли даль ше. Именно «пошли». О езде пришлось забыть на первых же километрах, А через пару дней мы все дружно открутили педали, цепляющиеся за ветви и стволы. Однако и это не дало особого эффекта. В долине реки Турухан «мертвая дорога» оказалась поглощенной непроходимыми зарослями тальника. Сероватые гладкие стволы и ветки переплелись так плотно, что невольно напрашивалось сравнение с тропическим лесом. Приполярные джунгли!.. Пробовали прорубить просеку — слишком долгий и каторжный труд. Оставалось одно: исполь зовать груженые велосипеды в качестве таранов, подминая и раздвигая ими зарос ли. Раз. два — сильно! Еще — раз. два!..
Километр — полтора в час — наша крейсерская скорость. А тут еще новый сюрприз: начался участок с неснятыми шпалами. И конечно же в самых труднопроходимых местах они сохранились лучше всего. Приходится перекатывать велосипед из одной впадины в другую, словно по гигант ской гребенке. Но нескольку раз в день встречались на нашем пути заброшенные лагеря Большинство из них сильно разрушены, однако попадались и сохранившиеся лаггородки, вплоть до неповрежденных стекол в окнах. В таких вот сбереженных природой поселках, обнесенных колючей проволокой, мы неоднократно находили подтверждения рассказам старожилов о том, что лагеря при закрытии строительства тщательно консервировались. Оконные рамы защищена деревянными щитами, нары разобраны и сложены аккуратными штабелями, казенная мебель (тумбочки, стулья, канцелярские столы) собрана в одном помещении. Говорят, даже ворота лагерные тогда, в 1954-м, опечатывались пломбами, упакованными в специальные водонепроницаемые коробочки... Мы таких пломб не нашли, но и увиденные следы явной заботы о сохранности закрываемых лаггородков наводили на определенные выводы. Значит, надеялись еще сюда вернуться? Значит, кто-то из высокого начальства, отдавая приказ о вывозе заключенных со строительства, в глубине души предполагал, что со временем все повернется вспять?
 Обшаривая уцелевшие постройки, удалось найти кое-что из документов сорокалетней давности: в бараках администрации, в печных устьях, в дальних уголках жилых отсеков, под нарами... Много любопытного вывезли с лагпункта № 9, затерявшегося в лесных дебрях на берегу Турухана. В кабинете бывшей прорабской весь пол оказался завален поблекшими листками бланков, высыпавшимися из перевернутых ящиков. Здесь же попалось на глаза и несколько цветных плакатов по технике безопасности, отпечатанных по заказу ГУЛЖДС (Главного управления лагерного железнодорожного строительства). Один из них поучает, например, что шпалы следует носить «на одноименных плечах». Вот такая трогательная забота о здоровье заключенных! В основном же в бумажных «развалах» встречались бухгалтерские и хозяйственные бумаги. Разнообразие типографских бланков и форм просто поражало. «Контрольно-сроковая карточка», «Арматурная книжка на заключенного», «Котловой ордер», «Список заключенных-бесконвойников»...
Среди прочих бумаг нашелся обрывок секретного бланка так называемой «формы № 2», где указывались условные цифровые обозначения категорий заключенных, использовавшихся для шифрованной передачи статистических данных в ежедневных селекторных отчетах. В этой форме указаны 23 категории заключенных. Это только живых, а существовали ведь еще и категории умерших от болезней, погибших при несчастных случаях, убитых... Впрочем, в обыденной лагерной жизни убитых — согласно официальным бумагам - не было. Застреленных «при попытке к бегству», зарезанных уголовниками оформляли как умерших «от сердечной недостаточности».
>>
Обшаривая уцелевшие постройки, удалось найти кое-что из документов сорокалетней давности: в бараках администрации, в печных устьях, в дальних уголках жилых отсеков, под нарами... Много любопытного вывезли с лагпункта № 9, затерявшегося в лесных дебрях на берегу Турухана. В кабинете бывшей прорабской весь пол оказался завален поблекшими листками бланков, высыпавшимися из перевернутых ящиков. Здесь же попалось на глаза и несколько цветных плакатов по технике безопасности, отпечатанных по заказу ГУЛЖДС (Главного управления лагерного железнодорожного строительства). Один из них поучает, например, что шпалы следует носить «на одноименных плечах». Вот такая трогательная забота о здоровье заключенных! В основном же в бумажных «развалах» встречались бухгалтерские и хозяйственные бумаги. Разнообразие типографских бланков и форм просто поражало. «Контрольно-сроковая карточка», «Арматурная книжка на заключенного», «Котловой ордер», «Список заключенных-бесконвойников»...
Среди прочих бумаг нашелся обрывок секретного бланка так называемой «формы № 2», где указывались условные цифровые обозначения категорий заключенных, использовавшихся для шифрованной передачи статистических данных в ежедневных селекторных отчетах. В этой форме указаны 23 категории заключенных. Это только живых, а существовали ведь еще и категории умерших от болезней, погибших при несчастных случаях, убитых... Впрочем, в обыденной лагерной жизни убитых — согласно официальным бумагам - не было. Застреленных «при попытке к бегству», зарезанных уголовниками оформляли как умерших «от сердечной недостаточности».
>>